Городская проза, долгое время бытовавшая в статусе литературного течения параллельно с деревенской и военной прозой, представляла собой многогранную и незамкнутую систему интегрированных текстов, которые обладали проблемной, тематической и стилевой текстурой. Авторами городской прозы было разработано идейное и культурное осмысление хода формирования урбанизации, выдвинута уникальная по новизне концепция личности, воссоздано мировоззрение постоттепельной интеллигенции, представлена новая поэтика урбанизма, создан ряд стилевых модификаций повести и романа.
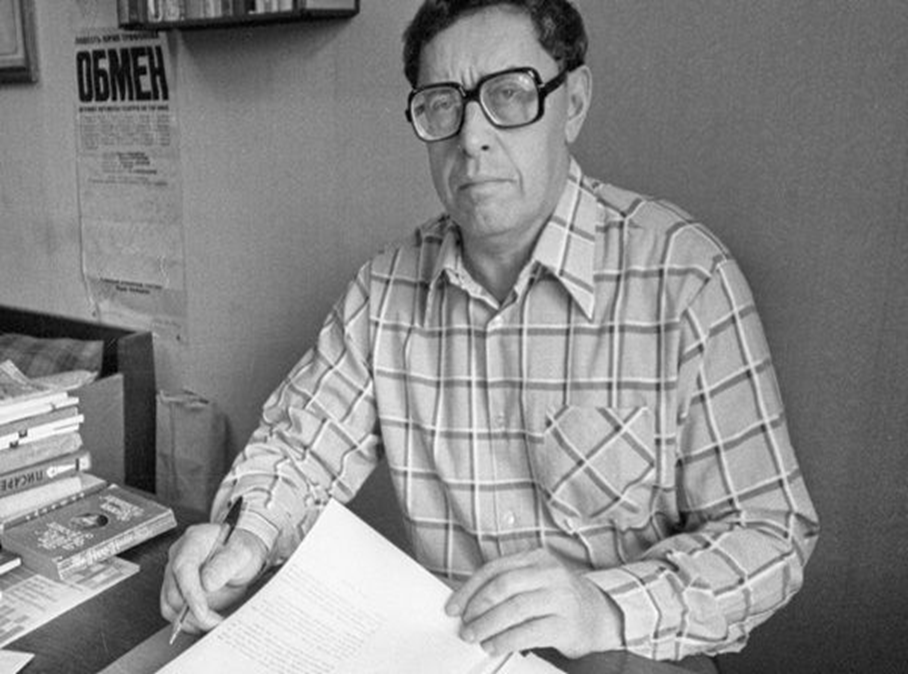
Рис. 1. Юрий Валентинович Трифонов – русский советский писатель, поэт
Писателем и родоначальником, создавшим литературные ориентиры и нравственно-философскую систему координат городской прозы, стал Юрий Валентинович Трифонов – русский советский писатель, редактор. Творчество, которого представляло собой особую систему с единой повествовательной и мотивной структурой, пространственно-временной типологией и архитектоникой героев, автобиографической основой и историософской доктриной.
«Московский текст» Юрия Трифонова представлял собой индивидуально – авторский вариант «московского текста» русской литературы, созданный с опорой на традиционные мифологемы, код прочтения и поэтику урбанизма, но выдвигавший и оригинальную интерпретацию московского топоса.

Рис. 2. Андрей Георгиевич Битов – русский советский писатель, поэт
В городской прозе второй половины XX столетия родные Юрию Трифонову авторские варианты «московского текста» были созданы талантливыми писателями Юрием Марковичем Нагибиным. Ириной Грековой, Георгием Витальевичем Семёновым, но в целом наметилась линия к унификации различных локальных текстов, о чём свидетельствовало сходство коллизий, типологии героев, и мотивной конструкции «московского текста» Юрия Валентиновича Трифонова и «петербургского текста» Андрея Георгиевича Битова [1, с. 15-21].
Стоит акцентировать внимание, что мегаполис в качестве условного, своеобразного историко-литературного колорита, появился в литературной публицистике в период развитого социализма. Трагический переход от родовых уз к законам древних античных городов-полисов, городская средневековая литературная письменность, петербургско-московская традиция в русской литературе, западноевропейский городской роман – вот только некоторые вехи, обозначившие этапы «городского текста» в мировой литературе.
Таким образом, сформировалось единое научное направление, которое анализирует особенности представления города в творчестве мастеров слова.
Так, исследователи, акцентировавшие внимание к русскоязычной литературе второй половины XX века, отмечали, что в ней обозначилось стремление писателей к образованию эстетических структур и литературной связи повести и романа в рамках военной, деревенской и городской прозы [2, с. 17-23]. Из отмеченной нами «триады» городская проза представляет собой наиболее значительное белое пятно на карте истории советской литературы данного периода.
Центр этого уникального конкретного литературоведческого явления, обозначенного в нашем исследовательском анализе, как городская проза, составили творчество Юрия Трифонова, Андрея Битова, Владимира Маканина, Людмилы Петрушевской, Вячеслава Пьецуха. В исследовании анализировался «статус» и аспекты, которые позволили отметить городскую прозу в историко-литературном процессе второй половины XX столетия. С точки зрения процесса формирования и взаимного сотрудничества творческих индивидуальностей Ю. Трифонова, А. Битова, В. Маканина, Л. Петрушевской, В. Пьецуха городская проза - эстетическое единство писателей. В контексте историко-литературной мысли городская проза – одна из линий направленности политического и литературного развития. В схематическом плане связей, между текстами писателей городская проза – литературно-конструктивная система.
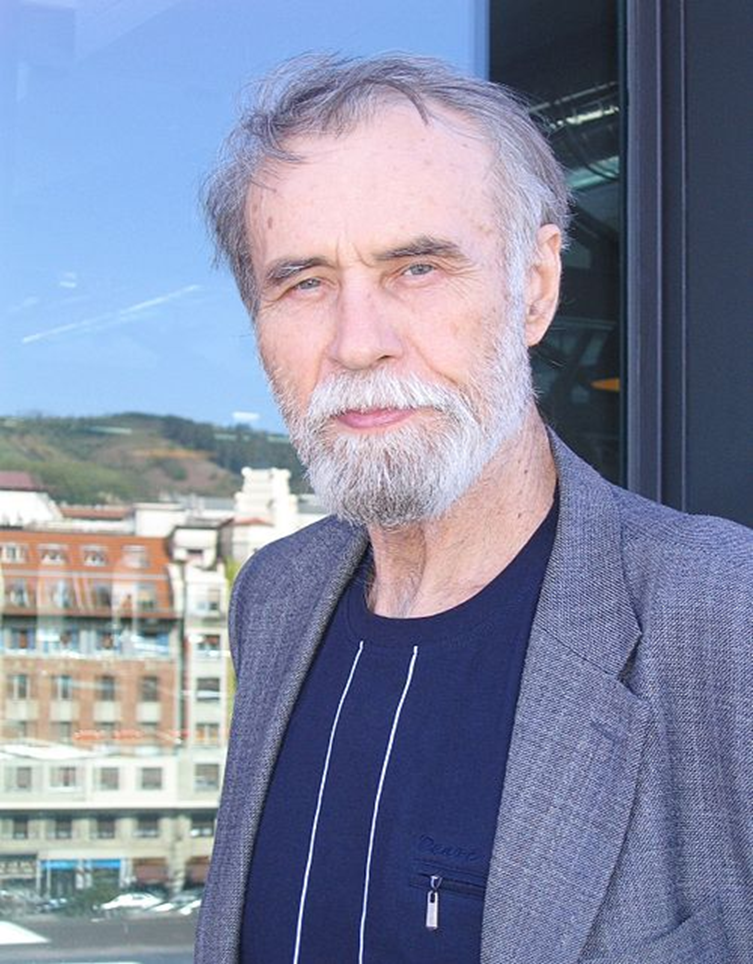
Рис. 3. Маканин Владимир Семёнович – русский писатель и сценарист
Таким образом, стоит отметить, что городская проза, как эстетическое единство писателей, рассматриваемого нами периода, в первую очередь, реализовалась в творческих критериях моделирования действительности в свете эталона, сформировавшегося в ценностном русле урбанистической культуры.

Рис. 4. Петрушевская Людмила Стефановна – русский и советский прозаик
Избирательность Ю. Трифонова, А. Битова, В. Маканина, Л. Петрушевской, В. Пьецуха глубоко концептуальна. Своеобразный контрапункт литературных миров, создаваемых писателями, большой город и истории, которые в нём происходили. Образы русского главного города Москвы или Ленинграда неодинаково представлены в произведениях Ю. Трифонова, А. Битова, В. Маканина, Л. Петрушевской, В. Пьецуха. Однако для отдельного из отмеченных писателей акцентирование к истории технополиса, несомненно, осмыслено на уровне программы, манифеста и становилось основой, которая позволила нам рассмотреть повести и романы названых авторов как явления единого эстетического устоя. Созданный мир построен совершенно по иным законам, который моделировали мастера литературного слова, и их творчество развивалось в русле аграрно-земледельческой культуры и относились критиками и литературоведами к деревенской прозе, и дело не только в том, что в произведениях писателей часто встречались урбанистические черты. События отдельных повестей или романов происходили на всей территории России – от посёлка городского типа Маканина, который располагается рядом с Уральскими горами, до юга. В отмеченных случаях периферийное пространство государства сливалось воедино с технополисом как центром конструктивной системы, которая постоянно эволюционировала и систематически формировалась. Например, герои Владимира Маканина – представители горного дела на территории Уральского региона оказались, тесно связаны, единым образом Москвы – историко-литературным центром города. Ведь в городской прозе, если говорить словами современного литературоведа, город господствовал как способ, или критерий литературного мировоззрения, которое, создало конгломерат разных сфер представления, данный принцип наглядно и отчётливо отмечался в романе «Исчезновение» Юрия Валентиновича Трифонова [3, с. 68-102].
Городская проза как эстетическое согласие писателей, имело тесные связи и преемственность в использовании однородных ключевых средств поэтики. Образ как символ, перцептуальный хронотоп дома как ковчега, или города как текста организовал культурный мир городской прозы. Городская проза как одна из центральных тенденций развития советского литературного процесса второй половины XX столетия, явление историческое, которое постоянно и динамично развивалась. Феномен городской прозы данного периода адекватно оценивался только в контексте деревенской и в незначительной степени военной и эмигрантской прозы. Городская проза уникальна и в историко-литературных традициях и предпочтениях, поскольку они уходили к петербургской и столичной линии и творчеству Антона Павловича Чехова [4, с. 177-182].
Таким образом, это позволило нам проанализировать не только единые базы городской прозы как эстетического единства, но и особую внутреннюю целостность, которая проявилась в логике литературного становления, формирования развития и эволюции творчества Ю. Трифонова, А. Битова, В. Маканина, Л. Петрушевской, В. Пьецуха как литературной и культурной системы.
Мотивы, концепция личности стали главными и ключевыми компонентами, которые, несомненно, определили конструкцию городской прозы. Мотив, безусловно, стал для городской прозы своего рода посредником в среде действительности и эстетической реальности. Квартирный вопрос, влияние города на человека – элементы системы, которые активизировали механическое устройство взаимосвязи её компонентов. Именно мотивы обусловили особое силовое поле городской прозы, которые создали благоприятные условия для проявления и развёртывания самых разнообразных пересечений и связей [5, с. 202-205].
В концепции личности наиболее явно отразился внутренний центр развития городской прозы 1965–1985-х годов. Специфика взгляда на мир и человека реализовалась через динамику поисков и обретений. Несомненно, что своеобразный центр городской прозы – творчество русского писателя и поэта Юрия Трифонова. Именно автор московских повестей задал своими произведениями особую тональность и направленность городской прозы, обусловил нестандартную особенность её развития в 1965–1985-е годы XX столетия.
Андрей Битов как писатель во многом развивался параллельным путем с Юрием Трифоновым, да и сами прозаики имели собственную творческую близость, однако приоритет литературных первооткрытий, который имел непосредственное отношение к сфере современного технополиса, остался за создателем известных произведений советской литературы, среди которых «Время и место», «Исчезновение», автором которых стал Юрий Трифонов.
Таким образом, стоит отметить, что московские повести, в первую очередь, ознаменовали собой акцентирование авторов к чеховскому типу героя. Однако Андрей Битов произвёл слияние реалистических основ повествования личности с постмодернистскими принципами [6, с. 38-47]. Если говорить про Юрия Трифонова, то в его произведениях отчётливо обозначились условия соединения чеховского типа героя с прустовскими поисками утраченного времени.
Владимир Маканин, после смерти Юрия Валентиновича Трифонова, выступил как последователь намеченного пути развития, и в 1985 году наметил в творчестве собственное самобытное звучание в разработке лишь пунктирно намеченных городской прозой традиций. В популярном романе «Один и одна» создатель и автор сформировал эксперимент Юрия Трифонова, и соединил чеховского героя с культурными открытиями западноевропейского экзистенциализма. Концепция аутсайдерства как основная линия развития городской прозы реализовалась в акцентировании писателей слова к образу человека, напомнившему о петербургской традиции в русской литературе [7, с. 97-128].
Особая роль отводилась творчеству Людмилы Петрушевской, поскольку именно она увидела и ввела в литературоведческую практику образы героя особого типа низшего социального места в государстве 1965–1985-х годов XX века, и городская проза, параллельно с чеховской концепцией дезориентированного миропредставления, обрела и «слабые места» бренного человека.

Рис. 5. Пьецух Вячеслав Алексеевич – русский писатель, редактор, педагог
Конечно, с отмеченных позиций уникальное значение имело творчество русского писателя, редактора, репортёра и педагога Вячеслава Пьецуха. Подобно тому, как Антон Павлович Чехов в стиле криптопародии литературно зафиксировал тривиальность темы человека низшего по социальному сословию в произведении «Смерть чиновника» и образа нелегального парадоксалиста в произведении «Слова, слова», так произведения автора «Новой московской философии» оказались зеркалом, отразившим героя городской прозы. Вячеслав Пьецуха интересовали эволюционные трудности, и его приоритетная задача – проанализировать их там, где они начинали проявляться. Именно поэтому творчество писателя отличалось многообразием пародийных резонансов, которые имели в фокусе зрения не только первоисточник в повестях и романах Александра Пушкина, Николая Гоголя, Фёдора Достоевского, Антона Чехова, но и всего его представление у авторов городской прозы. Не обходил сатирический дар Пьецуха и произведения Трифонова, которые неоднократно использовались, как индикаторы для обозначения целого ряда явлений современности [8, с. 255-258]. Творчество писателя, отличавшимся пародийными моментами, стало итогом, своеобразным этапом завершения, который подводил черту под произведениями Ю. Трифонова, А. Битова, В. Маканина, Л. Петрушевской. Концепция личности отразила внутреннюю направленность развития городской прозы: от реалистического полотна русской мысли к реалистическому полотну с отчётливыми постмодернистскими орнаментами.
Заключение
Таким образом, на основе целостности, структурности, органичности городская проза образовала систему, которая сама развивалась по законам культурологической вероятности и необходимости. Исследование городской прозы требовало соединения синхронного и диахронного подходов. Синхронный метод городской прозы определялся конкретным отрезком историко-литературного процесса 1965–1985-х годов и требовал актуализации внимания ко всей совокупности произведений писателей данного периода (проза, статьи). Диахронный план представлял собой, в первую очередь, генетические связи с отечественной и западноевропейской литературной традицией, ритмы преемственности, которые восходили к народно-мифологическому слою [9, с. 106-114].
Данный период знаменовал совершенно иную ситуацию, и ряд знаковых для городской прозы тем, мотивов, идей нашли своё дальнейшее историческое осмысление в произведениях А. Битова, В. Маканина, М. Кураева, Л. Петрушевской, но прозаики целенаправленно стремились к иным эстетическим платформам, входят в литературные и культурные системы, образованные по другим творческим законам. Однако речь не шла об исчерпанности традиций городской прозы, происходит их эволюция и трансформация в соответствии с реалиями новой эпохи. Наметилось слияние в представлениях Восток-Запад, мир-страна, о чём свидетельствовали последние повести и романы А. Битова, В. Маканина, Л. Петрушевской, В. Пьецуха, М. Кураева. Однако та концептуальность, которая определила специфику городской прозы в 1985-е годы, утратила своё значение, и элемент новизны. Городская тема в предвкушение своего нового лидера, каким был Юрий Трифонов в 70-е годы XX века [10, с. 324-332].
.png&w=384&q=75)
.png&w=640&q=75)