Изучение и оценка правоприменительной деятельности судебной системы Российской Федерации в части сложившейся практики квалификации преступных посягательств, неизменно свидетельствует, что ошибки при квалификации по признакам объективной стороны преступления и в первую очередь ошибки, связанные с определением точного момента окончания деяния так остаются часто встречающимся явлением. Данное положение весьма характерно и для такого «популярного» экологического посягательства как незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов.
Хотя теоретики уголовно-правой доктрины, считают наиболее сложной для осмысления именно субъективную (внутреннюю, психическую) сторону общественно опасного, виновного, противоправного и наказуемого деяния, однако, возникают проблемы и с верным правовым анализом внешних проявлений преступного посягательства
Значимость объективной стороны преступления в доктрине и на практике сложно переоценить. Проблемам объективной стороны состава преступления отечественная наука всегда уделяла пристальное внимание.
Опираясь на теорию состава преступления, при анализе преступного поведения в первую очередь устанавливаются объективные признаки, а именно наличие обязательных признаков объективной стороны.
Объективная сторона состава преступления, как правило, первым из всех элементов состава непосредственно воспринимается субъектом квалификации и ложится как в основу первоначальной, так и последующей (предварительной, то есть досудебной) квалификации.
Называя и раскрывая признаки того или иного состава преступления в нормах Особенной части УК РФ, традиционно законодатель обращается именно к проявлениям процесса общественно опасного посягательства во вне: деянию, его негативным последствиям, месту, времени и обстановке, способам, орудиям и средствам его совершения.
Все элементы преступного поведения, отражающие внешний характер воздействия на окружающую действительность и образуют объективную сторону. Следует согласиться с мнением В.П. Кашепова, что в самом общем виде ее можно представить, как процесс виновного, общественно опасного и противоправного посягательства против общественных отношений, взятых под охрану уголовным законом [5 с. 149].
По внешней, доступной для восприятия стороне преступного посягательства оценивается количественная сторона общественной опасности – ее степень, а также проводится отграничение преступного деяние от непреступного (например, малозначительного). Это находит свое отражение в виде и размере причиненного вреда, средствах и способах, избираемых виновным, степени осуществления преступного намерения, роли субъекта при совершении деяния в соучастии и т.д.
Как бы парадоксально это ни было, внешняя сторона преступного проявления позволяет нам судим о замысле преступника: мотивах, целях, его внутреннем психическом отношении к совершенному деянию и наступившим последствиям.
Чаще чем по другим элементам именно по признакам объективной стороны наиболее наглядно происходит разграничение преступных проявлений. В конечном итоге признаки объективной стороны позволяют индивидуализировать ответственность и наказание лица, нарушившего нормы уголовного права, реализуя на практики принцип справедливости.
Уголовный закон четко называет основные компоненты объективной стороны преступления.
Прежде всего (и это верно для всех без исключения составов преступлений), к ней относят действие или бездействие, совершаемое преступником. Под деянием понимают конкретное активное или пассивное поведение лица, обладающее общественно опасным характером и причиняющее вред либо создающее угрозу причинения вреда правопорядку, приемлемому для большинства членов общества и охраняемому принудительной силой государства.
Проблемы квалификации всех экологических преступлений схожи и вызываются, в первую очередь, сложностью бланкетных диспозиций, используемых для исключения чрезмерной обширности при описании объективной стороны. Для уяснения точного смысла применяемой нормы, у дознавателя, следователя, судьи возникает необходимость в анализе разнообразных законов и подзаконных актов в сфере экологии, поскольку именно в них определена грань, отделяющая экологический деликт от уголовно-наказуемого посягательства.
Еще одной особенностью законодательного определения составов браконьерского лова водных биоресурсов является сложная формально-материальная конструкция состава статьи 256 УК РФ: преступление, предусмотренное пунктом «а» части первой, является материальным, где момент окончания преступления связан с причинением действиями виновного крупного ущерба окружающей среде; в составах же, предусмотренных пунктами «б», «в», «г» части первой, уголовная ответственность не связана с наступлением негативных последствий, а зависит от факультативных признаков объективной стороны.
Действия, наказуемые в соответствии с санкцией статьи 256 УК РФ, описывается «незаконная добыча (вылов)». В этой части диспозицию следует признать назывной (по способу описания), так как в диспозиции просто дублируется название статьи, а никакие признаки самого деяния не раскрыты, что вызывает обоснованные проблемы у правоприменителей.
Для привлечения уголовной ответственности водных браконьеров определение момента окончания незаконной лова водных биоресурсов является принципиальным.
В научной литературе многие исследователи, в поле научного интереса которых находятся преступные посягательства на окружающую среду, рассматривают «добычу» как процесс улова, убоя, извлечения и иного изъятия из природной среды водных животных и растений, заканчивающийся фактическим завладением предметом добычи [7 с. 181; 8 с. 793]. По мнению Э.Н. Жевлаков, «добычу» следует расценивать как «процесс извлечения водных животных и растений из среды обитания путем установки сетей, капканов, использования других снастей, устройств и приспособлений, вылов или убой рыб или других водных животных» [6 с. 456].
Уголовное законодательство советского периода определяло данное экологическое посягательство как незаконное занятие рыбным и другими водными добывающими промыслами. Последовательно реализую волю законотворца, Верховный Суд СССР разъяснял, что преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 163 УК РСФСР 1960 года, следует считать оконченным с момента начала незаконного промысла, независимо от факта реальной добычи рыба или водные животные [4]. Однако, термин «промысел» шире по смысловому наполнению, чем применяемые в актуальном законодательстве понятия «вылов» и «добыча».
Основываясь на правовой преемственности опыта, сложившегося еще в прошлом века, современный законодатель применяет аналогичный подход при определении понятия охоты в виде «деятельности, связанной с поиском, выслеживанием, преследованием охотничьих ресурсов, их добычей, первичной переработкой и транспортировкой» [2].
В то же время, Федеральный закон «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» под добычей (выловом) понимает «изъятие водных биоресурсов из среды их обитания», то есть связывает ее с реальным получением результата лова [1].
На основе грамматического толкования уголовного закона, можно сделать вывод, что законодатель в статье 256 УК РФ приравнивает между собой термины «добыча» и «(вылов)», второе из которых, является ничем иным как отглагольным существительным от глагола совершенного вида «выловить», и подразумевает фактический результат, а не сам процесс.
Пытаясь обобщить и привести правоприменительную практику судов к единому знаменателю, Пленум Верховного Суда РФ в постановлении № 26 от 23.11.2010 [3], тем не менее, занял противоречивую позицию по вопросу окончания незаконной рыбалки. С одной стороны, судьи Верховного суда придерживаются широко распространенного в среде ученых мнения о том, что под незаконной добычей (выловом) ВБР понимаются (по аналогии с незаконной охотой) действия, направленные на их изъятие из среды обитания и (или) завладение ими в нарушение норм экологического законодательства (пункт 3). Но при этом, в пункте 10 того же постановления, Верховный Суд расценивает действия лица, непосредственно направленные на незаконную добычу водных биологических ресурсов (например, начало установки орудий лова, непосредственная подготовка к применению для вылова рыбы и других водных биологических ресурсов взрывчатых или химических веществ, электротока), и пресеченные в установленном законом порядке как покушение (по части 3 статьи 30 УК РФ и соответствующей части статьи 256 УК РФ). Кроме того, в пункте 12 Пленум рекомендует прекращать дела по малозначительности деяния в случаях незначительного количества и стоимости выловленной рыбы, отсутствия вредных последствий для окружающей среды, используемого способа добычи, который не являлся опасным для биологических ресурсов.
По такому пути идет и судебная практика. Так, в соответствии с приговором от 17.06.2019 Невельского городского суда Сахалинской области, Кормишкину А.С. было инкриминировано совершение умышленных действий, непосредственно направленных на незаконную добычу вылов водных биологических ресурсов (краба камчатского), но недоведенных до конца по причинам от воли лица независящим. Кормишин А.С. находясь в акватории Татарского пролива Западно-сахалинской подзоны территориального моря РФ, не имея разрешения на добычу ВБР, после завершения ранее им осуществленной незаконной добычи 52 экземпляров краба камчатского, решил продолжить свою незаконную деятельность, совместно и согласованно с двумя своими знакомыми снарядил три крабовые ловушки наживой в виде сырой рыбы и установил их в море с целью незаконной добычи краба, после чего убыл на берег, где был задержан сотрудниками ПУ ФСБ Росси по Сахалинской области, в связи с чем не смог довести свой преступный умысел до конца. Действия Кормишкина были квалифицированы по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 256 УК РФ.
На основании изложенных теоретических соображений, анализа доктринальны и практической деятельности судов можно с уверенностью предположить, что возникновение уголовной ответственности за браконьерство водных биоресурсов связано не с выполнением действий, непосредственно направленных на извлечение рыбы, водных животных, моллюсков, иных аквакультур из естественной среды обитания, а с момента их реального обособления и изъятие из среды нахождения.
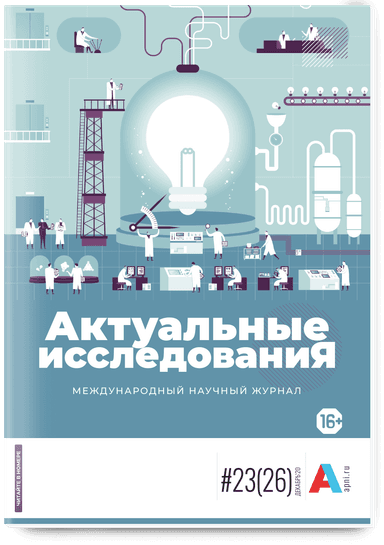
.png&w=640&q=75)