Театральный дискурс в настоящее время является объектом пристального внимания современной лингвистики с разных точек зрения: лингвистической, социолингвистической, лингвокогнитивной и прагматической.
Театральный дискурс представляет собой форму естественно-языковой практики, в которой получает воплощение театральный текст «в процессе театрального представления и вовлечения в коммуникативное пространство (с возможным консервированным или отложенным эффектом)» различных аудиторий [7, с. 134]. Театральный текст в свою очередь является «окончательным и определенным набором сложных целостных театральных знаков, которые сообщаются зрителю через спектакль и дешифруются им «под тем предположением, что это послание выражает, описывает некий воображаемый мир» [9, с. 147].
Театральный дискурс является естественной реализацией театральной коммуникации – результатом «множественности интерпретаций и условной переводимости словесного (дискретного) текста драмы в сценическое действие» [2, с. 11]. Особенность театральной коммуникации заключается, с одной стороны, в коллективном адресанте и адресате (драматург, режиссер, актеры – зритель), а, с другой стороны, в псевдореальности ситуации и квазиреальном взаимодействии в ней (происходящее на сцене заранее отрепетировано и зрители не в состоянии изменить заданную коммуникативную ситуацию) [1].
Театральный дискурс обладает чертами нескольких типов дискурса: текстуальным – основан на тексте театрального сценария; интерпретативным – зритель рефлексирует над содержанием спектакля не только во время, но и после его окончания, сопереживая и испытывая различные чувства; контектстуальным – выполняет когнитивную, аксиологическую, прагматическую функции: передает знания, оказывает воздействие на эмоциональное самочувствие, побуждает к действию, регулирует взаимодействие людей в обществе [6]. Наряду с вышеперечисленными признаками, в исследовании Л.А. Борботько, например, обращено внимание и на такие свойства, которые являются характерными непосредственно для области театрального искусства – это институциональность, репертуарность, знаковость, синтетичность, ритуализованность, регламентированность, конвенциональность, сценичность и театральность [1].
Анализ театрального дискурса в данной работе производится в опоре на аутодескриптивные данные, полученные в результате анализа дискурса современников Г.А. Товстоногова и А.В. Эфроса в спектакле «Три сестры» по пьесе А.П. Чехова с целью выявления особенности её режиссерской интерпретации. Аутодескриптивный текст «представляет собой связь текста и контекста, содержащего оценивающую мысль интерпретатора» [5, с. 41]. Присутствие элементов оценки является обязательным условием реализации аутодескриптивного текста. «Это объясняется тем, что для него характерным является воздействие на реципиента, которое базируется на личных эстетических идеалах и представлениях автора» [5, с. 41].
Театральный критик Е.И. Горфункель указывает на то, что в товстоноговском спектакле прослеживается глубокая привязанность режиссера по отношению к персонажам, проникнутая уважением к человеческой натуре, осознании ее ценности. «Порой кажется, что Товстоногов хотел всего Чехова вместить в любовь» [3, с. 32]. В отличие от драматурга Т.А. Товстоногов не отделяет себя от действующих лиц, эмоционально сливаясь с ними, он доводит это состояние до крайности и оно перерастает в неистовую жестокость. Примером служит следующий отрывок: «он любит прямо-таки, как Гамлет, который говорит матери … У Товстоногова же есть та договоренность, которая всегда у Чехова – недоговоренность» [3, с. 29].
По-другому благожелательное отношение к персонажам выражено в спектакле А.В. Эфроса: сдержанно, без чрезмерной открытости, без культивирования чувств. «В спектаклях Эфроса не было указательного пальца, не было поисков виноватых, и все-таки была любовь к персонажам, выраженная опять-таки без ударения на чувствах» [3, с. 32].
Языковые единицы дискурса Е.И. Горфункель показывают, что режиссеры демонстрируют совершенно разную позицию относительно оценки неблагоприятных условий, в которых приходится существовать персонажам: всеобъемлющей виновности друг перед другом и беспощадности обвинительного приговора, с одной стороны, и абсолютного отсутствия какого-либо осуждения, с другой стороны. «Товстоногов категорически не согласен: абсолютно необходимо, чтобы виной были охвачены все, не только Наташа» [3, с. 29]. «Для актеров, готовивших роли в «Трех сестрах» и «Дяде Ване», он предлагает путь самоосуждения, поисков вины в себе, чуть ли не судебного процесса» [3, с. 33]. «Доброжелательной критике бросалось в глаза осуждение жизни – «жизнь стала подсудной», суд над нею проводится «гневно и бесповоротно» [3, с. 33]. «В спектаклях Эфроса не было указательного пальца, не было поисков виноватых, и все-таки была любовь к персонажам …» [3, с. 32].
В дискурсе театрального критика интерпретации подвергается и понятие «чеховский юмор». Если в театральном дискурсе Г.А. Товстоногова присутствует унизительное обличение негативных явлений действительности и недостатков персонажей с помощью комических приемов, то сочетание юмора с крайней степенью трагичности в дискурсе А.В. Эфроса демонстрирует удивительное взаимодействие комизма и лирики. «Юмор Товстоногова всегда тяготел к крайностям – сатире или водевилю» [3, с. 32]. «Юмор и комизм в сочетании с лирической мукой у Эфроса естественны и органичны, даже когда они в избытке. У Эфроса Чехов – сплошная полоса нелепостей и беззаботности среди мрака, тоски, плача, запоя, что делало его «Трех сестер» гениально трагическими, несмотря на непрестанные комические гэги» [3, с. 32].
Исследование языкового материала театральных критиков показывает, насколько по-разному передается трагизм чеховской пьесы. Если товстоноговский спектакль характеризуется отсутствием поэтичности, притом, что жизненные невзгоды постоянно сменяют друг друга, а герои не в силах противостоять той невидимой силе, которая не позволят реализовать даже незначительные желания; то эфрософский спектакль отличается не приукрашенной и с откровенной прямотой изображенной действительностью, присутствием явных нот уныния и безнадежности, в какой-то степени безжалостности и суровости по отношению к персонажам, у которых эмоциональные элементы возвышаются над рассудочными, когда они оказываются в напряженной жизненной ситуации. «Слишком откровенно новаторским был спектакль Эфроса, слишком простым и трагичным был спектакль Товстоногова» [8, с. 239]. «Актеры играли «беду людей в такой жизненной ситуации, когда любое движение души натыкалось на стену, словно Рок стоял за кулисами и не давал осуществиться ничему …» [3, с. 41]. «Отчаяние, неверие, почти помешательство и распад, которые у Товстоногова – лишь близкая угроза, у Эфроса и есть настоящее, полное трагического лиризма. … Там правили правда – без жалости и сострадание – без обвинений.» [3, с. 30].
Анализу в критических заметках подвергается и историческая составляющая спектакля. Спектакль Г.А. Товстоногов, по мнению Ю. Рыбакова, передает идею как о том, что нормы времени, в котором живут герои, оказывают непосредственное влияние на их поведение и являются причиной страданий, так и об ответственности за совершаемые поступки перед нынешним и следующим поколением. Приведем в качестве примера следующий отрывок: «с изощренной психологической подробностью были установлены в нем связи человека и времени, сказано о том, что люди ответственны и перед историей, и перед собой. Драма обретала черты исторической трагедии» [8, с. 99].
В спектакле же А.В. Эфроса, опираясь на рефлексию Ю. Дмитриева, акцентируется внимание на нетипичном для воспитанных дворянских дам поведении и выражении чувств: пребывание в крайне возбужденном, нервном состоянии, потеря самообладания, резкая смена настроений, безучастное отношение к близким людям. Поведение актеров на сцене наводит на мысль о том, что они подвержены влиянию чьей-то воли, лишены свободы действий, естественной подвижности и непринужденности. «Здесь действуют люди изнервничавшиеся и почти истерические. Друг от друга они отгорожены невидимой, но очень крепкой стеной равнодушия. Движения иных из них судорожные и какие-то деревянные» [4, с. 154]. «Сразу видно, что они раздражены, нервны, почти истеричны» [4, с. 153].
Таким образом, анализ дискурса современников Г.А. Товстоногова и А.В. Эфроса, показывает, что, отталкиваясь от одной и той же литературной основы, режиссеры по-разному интерпретируют посылы драматурга. Из имеющихся в тексте положений, постановщики развивают свои собственные идеи, которые достаточно часто далеки от замысла писателя. В спектакле «Три сестры» по пьесе А.П. Чехова анализ аутодескриптивных текстов театральных критиков позволяет выделить следующие различия в интерпретации: сильная привязанность к героям (Т) – некоторая отстраненность (Э), всеобъемлющая виновность (Т) – отсутствие осуждения (Э), сатира (Т) – трагический лиризм (Э), в гармонии с исторической эпохой (Т) – несоответствие традициям времени (Э).
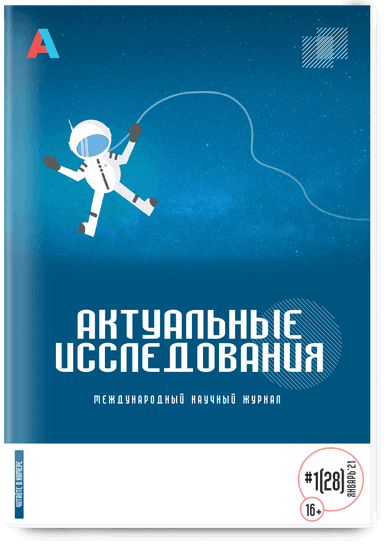
.png&w=640&q=75)