Как известно выемка – это процессуальное действие, заключающееся в добровольной выдаче или принудительном изъятии имеющих значение для уголовного дела предметов или документов, если точно известно, где и у кого они находятся. По своей правовой природе выемка отчасти напоминает обыск и ввиду отсылочного характера ч. 2 ст. 183 УПК РФ проводится в аналогичном ему порядке. Вместе с тем, выемку нельзя считать процессуальной или какой-либо иной разновидностью обыска. Это отдельное действие, имеющее самостоятельные цели, задачи, правовые основания. Различия между выемкой и обыском – писал А.Р. Ратинов – заключаются в том, что выемка производится только в отношении определенных предметов, тогда как предметы, подлежащие изъятию при обыске, могут быть известны ориентировочно, а иногда и вовсе неизвестны. Кроме того, при выемке должно быть известно местонахождение предметов, в то время как при обыске их предстоит еще отыскать [3, с. 5]. Выемка отличается от обыска изначальной определенностью подлежащих изъятию объектов, а также отсутствием поискового элемента в познавательных действиях органов предварительного расследования.
В сегодняшней следственной практике выемка достаточно часто подменяется близкими по сущности не процессуальными действиями – изъятием и добровольной выдачей. Изъятие обычно сопровождается применением принуждения и проводится в случаях, когда владелец значимых для уголовного дела объектов не желает выдавать их добровольно. В противном случае имеет место добровольная выдача. Особую актуальность эти квазипроцессуальные процедуры приобретают в стадии возбуждения уголовного дела, когда органы дознания и предварительного следствия еще не могут использовать весь предоставленный им арсенал процессуальных средств, в частности провести полноценный обыск или выемку. Тем более, что современный порядок проведения до следственной проверки предполагает возможность некоего «изъятия документов и предметов, в порядке, установленном настоящим Кодексом» (ч. 1 ст. 144 УПК РФ).
Безусловно, что и изъятие, и добровольная выдача являются некими «правовыми суррогатами». С позиций уголовно-процессуальной доктрины и требований закона они не должны подменять собой выемку там, где ее производство действительно необходимо. Однако, с практической точки зрения подобная «необходимость» выемки как следственного действия, родственного обыску, представляется весьма и весьма дискуссионной. Ведь в современной следственной практике выемки проводятся исключительно с сугубо технической целью легализации каких-либо предметов или документов, т.е. их «попадания в уголовное дело». Приведем лишь некоторые примеры. Так, следователь произвел выемку истории болезни обвиняемого из психиатрической больницы для возможности последующего производства судебно-психиатрической экспертизы. В другой ситуации следователь провел выемку юридического дела коммерческой организации в налоговой инспекции. Еще одним примером может послужить производство выемки одежды погибшего в бюро судебно-медицинской экспертизы и т.д. Понятно, что в описанных ситуациях следователей вовсе не интересовали факты нахождения требуемых объектов в больнице, экспертном учреждении или налоговой инспекции; они были очевидны. Здесь, как в других подобных случаях, отсутствовал главный атрибут следственного действия – его познавательная направленность. Такие выемки проводились исключительно в формально-обеспечительных целях – для процессуальной легализации необходимых материалов, имеющих значение для уголовного дела; их результаты сами по себе не предполагали каких-то новых сведений.
В этой связи напомним, что в своих работах мы придерживаемся наиболее узкого подхода к следственным действиям, понимая под ними лишь производимые следователем или дознавателем уголовно-процессуальные действия познавательного характера, направленные на установление обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела [4, с. 35].
В.Ю. Стельмах совершенно справедливо отмечет, что при назначении выемки в ряде случаев должно презюмироваться наличие определенных документов, составляемых в силу обязательного указания нормативного акта, регламентирующего ту или иную деятельность: амбулаторных или стационарных карт (историй болезни) – в медицинских учреждениях; юридических дел и документов налогового учета – в территориальных налоговых органах; платежных документов – в кредитно-финансовых организациях и т.д. [1, с. 80]
В этой связи ранее мы высказывали предположение, что под выемкой как следственным действием надо понимать не сугубо технический прием легализации каких-либо предметов или документов, а полноценный механизм процессуального познания, направленный на восприятие факта нахождения определенных материальных объектов в определенном месте и, таким образом, представляющий собственное доказательственное значение в контексте ст. 83 УПК РФ. Мы подчеркивали, что подобных (познавательных) выемок в практике не может быть слишком много и что выемка является достаточно редким следственным действием, намного более редким, чем обыск со свойственными ему изначально неопределенными объектами и (или) местами их нахождения. Тогда как для простого (технического) приобщения предметов или документов к материалам уголовного дела приемлемы более простые, не обусловленные столь сильными правовыми гарантиями, процедуры – представление и истребование.
Однако, дальнейшие изыскания по данному вопросу привели нас к необходимости пересмотра прежней точки зрении и обусловили новое убеждение – о полном исключении выемки из системы следственных действий как познавательных приемов, проводимых в целях установления новых обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела. Ведь, с одной стороны, сама доктринально-законодательная формулировка оснований производства выемки – «при необходимости изъятия определенных предметов и документов, если точно известно, где и у кого они находятся» уже изначально предполагает наличие у следователя соответствующей информации, исключающей необходимость ее установления аналогично тому, как это происходит при обыске. Само содержание ч. 1 ст. 183 УПК РФ превращает выемку в сугубо формальную процедуру изъятия, поскольку закономерно вызывает вопрос: какие, собственно говоря, новые сведения следователь может установить в процессе выемки, если ему уже и так все доподлинно известно из других источников? Если же следователь не располагает сведениями, предопределяющими подобную уверенность, то производство выемки представляется необоснованным; здесь требуется иной процессуальный прием – обыск.
С другой стороны, порядок производства выемки в современном понимании полностью вписывается в процессуальную форму и процессуальные гарантии обыска и вообще не нуждается в самостоятельной, обособленной правовой регламентации, что прямо следует из отсылочного характера ч. 2 ст. 183 УПК РФ. Как отмечали О.Я. Баев и Д.А. Солодов, возможность принудительного производства выемки во многом практически нивелирует ее тактические различия с обыском [1, с. 63]. Фактически выемка – это не что иное, как усеченный вариант обыска, проводимый по схеме: «Пришел → изъял»; тогда как обыск проводится по более сложной схеме «Пришел → поискал → нашел →изъял». Поэтому если обыск ограничивается добровольной выдачей искомых объектов при отсутствии оснований полагать о сокрытии каких-либо других (в порядке ч. 5 ст. 182 УПК РФ), то он de facto и становится той самой выемкой. И, наоборот, если в ходе проведения выемки следователь приходит к убежденности о сокрытии ряда объектов, имеющих значение для уголовного дела, то он вправе незамедлительно (прямо на месте) вынести соответствующее постановление и произвести обыск, в том числе, в порядке ч. 5 ст. 165 УПК РФ. К слову, для обыска и выемки традиционно предусмотрен даже единый, унифицированный, бланк протокола.
Представляется, что выемка полностью лишена как познавательного характера, так и процессуальной автономности, поэтому в перспективе должна быть исключена из существующей системы следственных действий, сохранив за собой лишь значение сугубо формальной юридической процедуры по легализации, «введению в уголовное дело» предметов или документов, ранее находившихся в законном владении, пользовании или распоряжении иных лиц. А задачи, направленные на изъятие объектов, имеющих незаконную природу, вполне могут решаться посредством обыска, пусть даже проведенного без необходимости выполнения поисковых мероприятий, т.е. в порядке ч. 5 ст. 182 УПК РФ.
Кстати, при подобном подходе выемка может вполне легально и совершенно обоснованно вытеснить из сферы уголовно-процессуального регулирования то самое непонятное «изъятие, в порядке, установленном настоящим Кодексом», которое, согласно ч. 1 ст. 144 УПК РФ, предусмотрено для доследственной проверки сообщений о преступлениях. Более того, в таком контексте выемка становится вполне допустимой и в судебном заседании. Ранее, рассматривая ее как познавательный прием, мы полностью исключали подобную возможность. Мы отмечали, что производство выемки в судебном заседании не только практически невозможно, но и лишено целесообразности. Ведь предусмотренное законом требование об обязательном оглашении любых судебных решений (ч. 1 ст. 256 УПК РФ) полностью исключает внезапность и оперативность как необходимые тактические условия ее производства.
Но если рассматривать выемку не как родственный обыску познавательный прием, а как юридическую процедуру легализации предметов или документов, то соответствующие тактические рекомендации, в частности фактор внезапности, теряют всякий смысл, и, следовательно, уже не требуют конфиденциальной и оперативной формы принятия соответствующих решений.
Сугубо технический характер выемки делает ее похожей на прямо не указанные в УПК РФ, но вытекающие из его смысла процедуры представления и истребования предметов или документов. Будучи лишенными познавательной направленности, эти процессуальные механизмы, равно как и выемка, играют сугубо обеспечительную роль и нацелены на легализацию предметов или документов, имеющих значение для уголовного дела. Поэтому правы те авторы, которые ратуют за их более простую процессуальную структуру, не предполагающую столь сильных правовых гарантий [2, c. 21].
Однако, представляется, что подобный упрощенный подход не приемлем для выемки, отличающейся от представления и истребования отсутствием позитивного волеизъявления физического или юридического лица и, следовательно, требующей обеспечения государственным принуждением. Собственно говоря, существование выемки (принудительного изъятия) и обусловлено необходимостью создания в уголовном судопроизводстве процессуального механизма, позволяющего субъекту уголовной юрисдикции получить для приобщения к материалам дела требуемые предметы или документы против воли владеющих, пользующихся или распоряжающихся ими лиц.
Таким образом, для выемки более разумным будет существующий (или по крайней мере, близкий к нему) порядок, заключающейся в вынесении соответствующего постановления как публичного государственно властного акта, в наличии четкой процедуры (разъяснение прав, обязанностей, предложение выдать объекты добровольно и т.д.) и в обязательном протоколировании ее хода и результатов. Особую актуальность сохранение существующего (близкого к нему) порядка будет иметь в части производства выемок объектов со специальным правовым статусом: а) предметов и документов, содержащих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну; б) предметов и документов, содержащих информацию о вкладах и счетах граждан в банках и иных кредитных организациях; в) вещей, заложенных или сданных на хранение в ломбард; г) электронных носителей информации; д) выемки у адвоката.
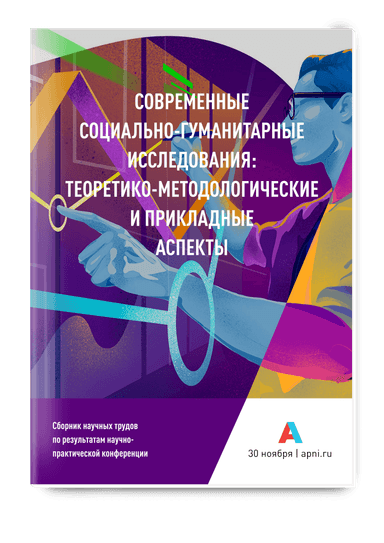
.png&w=640&q=75)