Провозвестником борьбы за чистоту и объективность юриспруденции выступил Ганс Кельзен. Он подверг её критике за зависимость от политико-правовых рассуждений и поставил цель возвести юриспруденцию на уровень подлинной науки о духе. Ему казалось важным оторвать юриспруденцию от практики создания законов и направить сознание на их познание, чтобы в конце концов теория юриспруденции достигла высокой точности и объективности [4, с. 3]. Своё учение о законе он называл чистым, твёрдо надеясь очистить юриспруденцию от всего наносного, с нею не связанного [4, с. 10]. Сразу стоит отметить, что Кельзен связал проблему объективности с критериями науки о духе, что полностью соответствует традиции изучения права И. Кантом и Г. Гегелем. Хотя заявка его оказалась только заявкой, так как в дальнейшем своём анализе тема наук о духе отошла в сторону. Кельзен, кроме того, подал дурной пример своим последователям, не посчитав нужным водить в юриспруденцию и в систему законодательства проблему справедливости. Ему показалось, что справедливость затемняет чистоту познания юриспруденции и вообще является частью аксиологии, от чего он хотел избавиться [4, с. 9]. Хотя теория законодательства не может не учитывать его важнейшей критериальной основы, каковыми являются критерии справедливости, так как превращается в оторванный от проблем жизни анализ нормативного состава и формальной структуры юриспруденции. Да и практика социальных отношений, в которой законодательство не учитывает критерии справедливости, сама становится мутной, скрывающей от сознания граждан нечистоплотные дела в бизнесе и во власти.
Заявленной цели юриспруденции, как науки о духе, Кельзен придерживаться не стал, стремясь усилить объективную значимость юриспруденции её связью с законами природы. Ухватившись за давнее различение между естественно-научными и общественными науками, изучающими разные предметы – природу и общество, Кельзен занялся изучением риторического вопроса: является ли юриспруденция наукой естественной или общественной? И, вопреки чёткому и давнему делению явлений на естественные и общественные, он, вдруг, заявил, что общество невозможно чётко и однозначно противопоставить природе. Ведь общество, будучи частью жизни, неминуемо оказывается частью природы. А потому даже законодательство содержит в себе природную сторону [4, с. 11]. В данном рассуждении Кельзен воспользовался приёмом редукции: перевода высшего состояния – к низшему, то есть, опустил общественные отношения до уровня природных стихий. Такая аргументация тотчас ставит под сомнение проблему разумного очищения юриспруденции – в чём была главная задача Кельзена. Ведь в природе нет сознания, занятого изучением юридических законов и нет созданных законов, которые исполняли бы представители животного мира. Но если данных реалий нет в природе, нет никаких оснований переводить юриспруденцию в ранг явлений природы, или делать её частью природы.
Перейдя к теме соотношения субъективной и объективной сути законодательного акта, Кельзен большее предпочтение отдаёт субъективным действиям людей. В частности, он верно считает, что внешнее наблюдение кодекса законов не даст возможности осознать смысл того или иного законодательного акта. Тоже происходит и в ходе создания акта, когда осознающий свои действия законодатель наделяет его тем или иным смыслом, который после будет воспринят другими людьми. Приведя эти точные идеи, Кельзен неожиданно заключает, что субъективные моменты в законодательном акте могут совпасть с объективным значением, когда акт вступит в силу [4, с. 11-12]. Но если признаётся сознание юриста, создававшего законодательный акт, а также сознания многих граждан, его после воспринимающих, значит, первостепенен не просто субъективный (в плане субъективизма), а духовный фактор при взаимодействии лиц с принятым законом. Тогда как объективная форма его существования в ряду других актов равна объективной форме многих предметов, окружающих людей, которая без активного отношения людей к ним малозначима.
Приводит Кельзен и ещё аргумент в пользу объективности продуктов законодательства. Называя сделку, либо административный акт, либо решение парламента, либо приговор, – он считает нужным выделить в них две стороны. Одна, по его мнению, связана со временем и пространством, с чувственно-воспринимаемыми формами таких актов; вторая обусловлена значением, которое указывает на силу законодательного акта [4, с. 11]. Но и этот аргумент находится в той же логике не просто бытия, а восприятия законов, актов, кодексов, так как чувственное восприятие двупланово: оно может быть направлено на форму, но более всего – на содержание и значение соответствующих юридических документов. Они, с одной стороны, задумываются, создаются, с другой – воспринимаются и осознаются, а после в отношении к ним принимается какое-то решение. Внешние предметы лежат на полках, находятся в бумажных или компьютерных папках и сами по себе малозначимы. Всегда принципиально важно содержание и значение того и иного акта, который находится в незримом духовном пространстве. При встрече с ним в сознании человека возникает внутренний диалог: а) согласиться с данной нормой и следовать ей в своём поведении; б) может быть, сделать вид, что норма сознанию не известна; в) или отвергнуть данную норму и не следовать ей из принципиальных соображений. Все эти рассуждения вполне реальны при встрече человеческого сознания с содержанием той или иной нормы. К примеру, иногда встречается практика отдачи преступных приказов. Такой приказ возникает не всегда по воле приказывающего, иногда – на основании существующей нормы. У В. Высоцкого есть, например, стихотворение «Тот, который не стрелял». В нём один из солдат, исполнявший приказ о расстреле, не выстрелил в приговорённого и тем спас ему жизнь. У данного солдата в сознании, видимо, мгновенно прокрутились в голове вопросы: исполнять? не заметить? воспротивиться? Он выбрал последнее. Основания такого решения требуют специального разбора, я их оставлю в стороне. Важен факт: норма, в соответствии с которой был издан приказ, важна была прежде всего содержательно, и реакция на неё была аналогичной, свидетельствуя о незримой встрече двух сознаний: создателя нормы и её исполнителя.
Очередной аргумент Кельзена обращён к предшествующим, по отношению к настоящим, продуктам законодательства. Ему кажется достаточной ссылка на, вроде бы, ранее созданный и существующий документ, который он признаёт безусловно объективным. Своеобразная доля этой объективности переносится, по Кельзену, и на вновь создаваемый юридический акт. Кроме того, степень объективности возрастает в связи с тем, что существующие в прошлом законодательные акты и нормы становятся для текущих процессов схемами истолкования [4, с. 13]. Внешне так оно и есть: если уже созданные законы и кодексы объективны, значит, очередной закон, рождающийся на их основе, также должен быть объективным. Но данное рассуждение не учитывает, или элиминирует два важнейших обстоятельства. Первое предполагает намерение, силу воли и способ аргументации законодателя при первоначальном создании того или иного закона или кодекса, предшествующего данному закону. Это намерение, сила воли и способ аргументации предыдущего законодателя формируют направленность и суть будущего закона. Новый законодатель, использующий прежний закон, обращает внимание не на материальный объект, взятый с полки или вынутый из папки, не на фигуративность шрифта, которым написан закон, а на воплощённые в нём намерение, волю и способ аргументации прежнего законодателя. То есть, каким бы древним ни был прежний документ, главным для нового восприятия является духовная связь «Я» современного законодателя с «Я» прошлого законодателя, которая позволяет использовать аналогичное намерение, набраться, если требуется, такой же силы воли и выстроить аналогичную или близкую к прошлой аргументацию. Второе обстоятельство уже относится к вновь создаваемому закону, который возникает лишь в силу намерения, способа аргументации и воли текущего законодателя: он может учесть предшествовавшие законы и кодексы, а может создать совершенно новый закон. Так революционные законодатели, как правило, создавали законы, содержание которых в прежнее время отсутствовало. То есть, текст закона, по форме объективный, содержательно представляет собой согласие или оппозицию прошлому намерению, воле и способу аргументации. В данном случае вновь подтверждается возникновение духовной связи между прошлым и настоящим законодателем, которая может быть основана на согласии, на частичном отступлении или на полной оппозиции к предыдущему законодателю.
Что любопытно, исследовательская честность Кельзена не позволила ему идти против истины при описании сути нормы, в которой очевидно присутствует духовная связь между лицом, её устанавливающим, и лицом, её исполняющим. Кельзен, констатирует, что норма направлена на будущее поведение, в отношении к которому она предписывает способ такого поведения и обязывает этому способу следовать. В содержании нормы он фиксирует человеческий акт, не просто, а интенционально, то есть, глубоко внутренне направленный на поведение других. В содержании нормы, пишет Кельзен (и это известно), может быть предписание, приказ, дозволение, а также уполномочивание. Последнее предоставляет ту или иную долю власти. Главное – итог, к которому приходит Кельзен: во всех данных формах действуют акты воли [4, с. 14]. Но если от нормы исходит чей-то волевой посыл, направленный на другую (другие) волю, значит, норма несёт в себе порцию потенциального духовного акта. При встрече с другим сознанием и волей этот духовный акт становится действительным (пусть не всегда действенным). Тем более, что также фиксирует Кельзен, волевые акты, предписывающие (приказывающие, дозволяющие и т.п.) ту или иную норму поведения могут выражаться по-разному. Либо такой акт становится значим с помощью жеста: регулировщик одним движением руки приказывает автомобилям остановиться, другим движением – следовать дальше. Либо акт значим посредством знаковых обозначений: цвета светофора, разметки на асфальте, постового у входа и т.п. Либо акт опознаётся с помощью произнесенных или написанных слов. Ясно, что аналогичным образом могут активироваться разрешения или полномочия [4, с. 16-17]. Мне думается, что данным рассуждением Кельзен полностью опрокидывает свою концепцию закона, как природного явления, как совершено объективного предмета, вроде бы не имеющего в себе ни грана субъективности или духовного посыла (неважно, какой он: доброжелательный, констатирующий или враждебный). Жест регулировщика, приказ начальника подчинённому, акты разрешения и уполномочивания – всё это примеры сугубо субъективных действий, в каждом из которых содержится то или иное намерение.
Есть у Кельзена аргумент, связывающий фактор объективности закона с действием конституции, которая придаёт законодательному акту возможность быть действенным и обладающим объективным смыслом [4, с. 18]. Отсылка к конституции может иметь значение только в том случае, если нормы конституции появились, как река, поле, лес и другие природные явления. Однако сама конституция создаётся и периодически меняется. Создают и меняют текст конституции конкретные лица, опирающиеся на своё намерение, сознание и волю, использующие те или иные способы аргументации при создании её статей. То есть, текст конституции, несмотря на то, что он имеет вид документа, или брошюры (внешне материальной), а также несмотря на то, что статьи конституции часто написаны без всякой аргументации (как говорят, словно высечены из камня), содержание её объективным считаться не может. В каждой конституционной статье сокрыт замысел её создателя, его специфическая воля, способ аргументации, и они при тщательном анализе всегда могут быть воссозданы подготовленным сознанием. В том случае, когда сознание не подготовлено, оно всё же осознает сокрытые в той или иной статье конституции субъективные реалии подспудно, интуитивно. То есть, текст конституции не выбивается из общей закономерности, указывающей на духовную связь между создавшим её и воспринимающим сознаниями.
Поиск объективности законодательства приводит Кельзена к идее существования обязывающей людей общей нормы, которую мог бы установить основатель религии: в частности, указывается норма любить ближнего. Кельзен полагает, что данная норма предстаёт, как объективно обязывающая потому, что она становится предпосылкой, ниспосланной высшим законодателем всем законодателям мира людей. Данную предпосылку, которая по мнению Кельзена, обосновывает объективную данность нормы, он решает назвать основной нормой [4, с. 19]. Таким образом, стремясь найти корни объективности закона, Кельзен уходит к божественным установлениям. Такие установления он считает основой для созданных божественных норм права. Сами данные установления переводятся им в ранг главных норм, благодаря которым у закона возникает свойство быть объективным. Однако данные установления сформулированы вследствие намерений Бога, на основе его разума, являются актами божественной воли в отношении к людям, их совести, сознанию и воле. Намерения, разум и воля – те же приметы духовной активности божественного промысла. Тогда как в отношении к создателям законов приведённый Кельзеном пример не корректен – никто из людей не вправе претендовать на величие божественного промысла. Если же имеется в виду правитель той или иной страны, на основании мнения или замысла, или намерения которого создаётся общая норма для законодателя, то сохраняется уже рассмотренная закономерность. Она выражается в том, что возникает та же незримая духовная связь между мнением, или замыслом правителя в отношении к мнению, сознанию, волевому акту законодателя, для которого высокое задание становится предпосылкой для создания общей нормы. После граждане осознают не просто мёртвый документ: меж их намерениями, сознаниями и актами воли возникает своя духовная связь в отношении к намерению, сознанию и воле законодателя. У проницательных граждан аналогичная связь возникает между их духовными свойствами и такими же свойствами главного авторитета, инициировавшего общую норму.
Особый вид обоснования объективности норм права Кельзен даёт, обращаясь к практике обычая, правила поведения которого иногда могут быть использованы законодателем для образования того или иного состава законодательных норм. Кельзен восстанавливает способ появления норм обычного права, когда главную роль начинают играть однотипные формы поведения людей, многократно повторяющиеся в течение достаточно длительного времени. Важно то, что Кельзеном учитывается субъективный смысл возникающих норм, которые в момент зарождения образуют в совокупности состав обычая. Сам он не считает, что в таких нормах содержится долженствование, но тут же оговаривается, что вновь нарождающиеся поколения, находящие тот или иной обычай сложившимся, вынуждены ему следовать, даже если сами они не считают данный обычай для себя необходимым [4, с. 19]. Казалось бы, аргументация Кельзена находит прочную опору для объективности норм на почве обычного права. Действительно, нормы существующего обычного права для каждого человека приобретают внешне объективный вид, так как каждый из людей пользуется ими также, как и все остальные. Но вернёмся к главной проблеме: как создавались эти нормы? Тогда придётся вспомнить, что первоначально в некоторой новой для них ситуации люди следовали своему намерению. То есть, возникновению нормы обычного права первоначально предшествовала потребность в наиболее удобном действии; на неё реагировало намерение; оно осознавалось, отыскивая путь к такому действию; наконец, активизировалась воля субъекта, данный вид действия избирающая. Несмотря на длинную форму описания, в практике возникновения обычных норм все затронутые шаги иногда проскальзывают почти мгновенно. Тем не менее, они обязательно возникают и их стоит учитывать при оценке способа возникновения обычных норм. Аналогичные этапы возникали в сознании всех остальных людей, которые сталкивались с аналогичной ситуацией, и тогда они следовали первому проложенному пути (в принципе, имея возможность идти своим путём). Таким образом, потребность, намерение, сознание и воля – таковы первоначальные субъективные акты при возникновении нормы обычного права. Лишь впоследствии, благодаря многократному их повторению, они приобрели внешне объективный характер. Однако в создаваемой законодателем норме на основе обычая, хранятся все те же потребность, намерение, сознание и воля, с которыми вступает в незримую духовную связь воспринимающее законодательную норму сознание.
Наконец, Кельзен приводит совсем шаткий аргумент в пользу объективности законодательных норм. Он считает объективно действенной правовой нормой такую, которой начинает соответствовать поведение людей. В то же время, им обращено внимание на норму нигде не применяемую и не регламентирующую поведение людей – её он считает не действенной и не действительной законодательной нормой (что, впрочем, хорошо известно) [4, с. 21]. Мне думается, что Кельзен в данном вопросе смешивает воедино два разных фактора – фактор предполагаемой им объективности законодательной нормы и фактор её действенности. Кельзен полагает, что фактор следования людей законодательной норме позволяет считать её объективной. На самом деле факт следования человека норме представляет собой лишь субъективный акт его согласия (воздержания, несогласия) с заложенным в неё содержанием. То есть, в данном случае следовало бы говорить о форме отношения человека к норме, а не о её объективности. Действительно, человек соглашается с нормой, либо воздержится ей следовать, либо вообще не обращает на неё внимание. Во всех данных случаях имеется акт отношения человека к способу внешнего воздействия на его ум и душу. Что до фактора действенности, то это совсем другая история, с темой объективности норм права мало связанная.
Каким образом восприняло идеи Кельзена современное юридическое правосознание? Г. Гаджиев безоговорочно принимает идею Кельзена об объективности законодательных норм. Причём, объективным оказывается у него даже процесс создания юридического концепта, который уподобляется естественной закономерности. Хотя выяснено, что процесс создания законодательных норм субъективен по своему замыслу и духовен по своему процессу. Тут же, после заверения в объективности юридического концепта, следует утверждение, что данный концепт является продуктом развивающегося юридического разума, даже естественно-правовой интуиции человечества. Хотя издревле все продукты любого вида сознания, в том числе и юридического, философией считались субъективными, даже при материальной оболочке. Не спасает положения дела и ссылка на потребность социального мира в правопорядке, в стремлении отформатировать социально-юридические конфликты предельно быстро и беспристрастно [1, с. 23]. В данном случае субъективной оказывается также потребность в правопорядке, а также сами действия по созданию законов, приводящие, как считает специалист, к быстрой и точной регламентации социальных конфликтов. Ведь все действия, создающие законы и конституции, основаны на намерениях, замысле, сознании и воле создателей соответствующих норм, то есть, на субъективных актах. Под вопросом оказывается и фактор беспристрастности законов. Ведь если каждый акт закона в период его создания основан на намерении законодателя, за ним, как правило, скрывается намерение властного авторитета. Это хорошо известно со времени учения Т. Гоббса. Соответственно, любой закон привносит в практику социальных отношений лишь то задание, какое было в него вложено. И ясно, что такое задание поддерживает интересы лиц, инициирующих и создающих законы, способствуя приглушению, нередко – ущемлению прав лиц, которые вынуждены этим законам подчиняться. В таких случаях субъективный интерес довлеет над любой беспристрастностью.
Казалось бы, аргументация Гаджиева по поводу объективности законодательства бесспорна тогда, когда он обращает внимание представления о правах граждан и конституционных принципах, существующих в разных странах и у разных народов [1, с. 33]. Однако он словно не замечает, что говорит не о предметной среде, существующей самой по себе, а о представлениях народов. Сами эти представления, даже внутри отдельной страны, неоднородны. Малая часть данных представлений принадлежит властным лицам и законодателям, создающим нормы законов; большая их часть принадлежит народам, которые вынуждены подчиняться законодательным нормам. Хотя, как выяснено, люди, в зависимости от собственных намерений, либо подчиняются им, либо их вовсе не замечают, либо принципиально игнорируют. То есть, в каждой стране над внешне материальным текстом того или иного закона разворачивается незримо ведущаяся дискуссия народа с законодателями, где конечное слово принадлежит гражданам, либо суду (в случае возникновения законодательной коллизии). Казалось бы, Гаджиев обращает внимание и на субъективно-объективную сущность законодательства, полагая, что субъективным в нём является внутренний смысл каждой нормы, а объективным её значение [1, с. 32]. В реальности смысл, и значение юридической нормы субъективны, так как законодатель создаёт не просто смысл нормы, но выражает свое отношение к ней в виде её значения. Точно также поступает реципиент, считывая и смысл, и оценивая по-своему значение нормы. Потому сущность законодательства лишь по форме объективна, будучи всегда субъективной по своему содержанию.
Г. Мальцев тоже начинает с описания природного основания законодательства. Он полагает, что физический мир объективен, внутренне совершенен, изначально образцово отрегулирован, обуславливая возможности и пределы его познания. Законодательный порядок, по его мнению, также объективен, однороден с природой, будучи её упорядоченной частью. Отсюда Мальцев формулирует главное методологическое требование к законодательству – соответствовать человеческим представлениям о природности всех вещей. Следом утверждает, что закон объективен в онтологическом смысле, неся в себе природный образ. Последний находится, вроде бы, по ту сторону субъекта с его познавательными возможностями и творческими потенциями [6, с. 44-45]. Процедура сведения законодательства, создаваемого умами юристов, к природным явлениям, очень странна. Согласно глубинному изучению данной проблемы И. Кантом, пока между данными типами закономерностей (природными и общественными) лежит познавательная пропасть. В этой связи, любое причисление законодательства к природе или к её части, а также идея о его однородности с природой выглядят чрезвычайно опрометчивыми и далёкими от сути данных состояний. И всё же, после категоричных заявлений, Мальцев представляет объективность законодательства, уже существующую не саму по себе, а обусловленную сознанием субъекта, который осмысливает законы в рамках субъектно-объектных отношений. Аргумент Мальцева таков: если бы природа ни наделила человека сознанием и ни возвысила его до уровня познающего субъекта, природа не имела бы возможности выступать в онтологическом статусе объекта [6, с. 44-45]. Специалист, видимо, не замечает, что вступает на путь толкования метафизических проблем, полагая, что простых суждений по их поводу вполне достаточно. Хотя наукой не решён и неизвестно, когда будет решён вопрос: сознание дано человеку природой или Богом? И пока он не решён, никаких категоричных суждений по этому поводу быть не может. И всё же Мальцев переходит к теме активности человеческого сознания, по-своему переделывающего природу. Хотя, всё же продолжает он, часть продуктов человека словно вырываются из-под влияния его воли, становясь подобными всем другим объектам, что в значительной степени осложняет специфику субъектно-объектных отношений. Отдав некую дань роли сознания, Мальцев без какого-либо доказательного перехода заключает: «упорядоченная природа, физический мир наглядно демонстрируют великую конструктивную силу закона, закономерности и порядка» [6, с. 46]. Отмечу, что идея великой конструктивной силе законов и закономерностей природы Мальцевым явно преувеличены. Если бы природа всюду проявлялась согласно строгим законам, на планете не было бы землетрясений, извержений вулканов, страшных цунами, снегопадов в южных странах, жары в странах северных, человечество не подвергалось бы угрозам от вирусов, от врождённых пороков разных органов и сердца, хотя этих и иных фактов в текущих природных явлениях и в жизни человечества немало. Внешне стройна лишь материальная вселенная и то только потому, что она кажется таковой невооружённому взгляду. Но и в ней немало страшнейших катаклизмов, от смерти старых звёзд до взрыва сверхновых, от неподдающегося законам гравитации вращения в обратном порядке (по отношению к основной плоскости вращения ряда галактик) их внутренних дисков (размером с килопарсек) и т. п. Следовательно, пора бы отойти от образа природы при построении законов и признать за ними неустранимый фактор активности субъекта. Но Мальцев впадает в явный парадокс: с одной стороны, он склоняется к рационализму классической науки, как образцу для законодательства, поддерживающего стабилизацию жизни общества. С другой стороны, ему импонируют устойчивые регулируемые системы, созданные по образцам физического мира [6, с. 47].
Но если законодательство пронизано рациональностью, оно принадлежит сознанию, а не природе. С позиции природы не объяснить также общественных противоречий и конфликтов, периодических сотрясающих страны и международный ландшафт. В финале книги Мальцев указывает на приверженность своей концепции позитивистской методологии. Следуя ей, он настаивает на бытии законодательной нормы, как объективной совокупности норм, требование которого в отношении к субъектам также объективно. И даже заводя речь об устаревшей юридической норме, Мальцев, лишая данную норму действительности, сохраняет её присутствие в виде объективного исторического факта [6, с. 530]. Тема объективности законов и норм в предыдущем анализе привела к представлению о их материальном субстрате и субъективно-духовном содержании. Аналогичное содержание (а не материально написанный текст) воспринимается человеческим сознанием при изучении закона или отдельной нормы. То же, что также выяснено, относится к законам и нормам, созданным в прошлом.
В. Граждан пытается раскрыть объективность существования и действия законов многопланово. Вначале он обращает внимание на законы, действующие помимо воли и сознания людей. Делает коррекцию в отношении к общественным законам, проявляющимся через сознание и волю людей. Приходит к идее взаимодействия социальных субъектов с данными объектами. К главному свойству социальных субъектов он относит системообразующую функцию, которую связывает со способностью создавать в ходе взаимодействия те или иные социальные системы (здравоохранения, образования, законодательства и тому подобное). Фундаментом подобных систем, согласно мнению специалиста, становятся социальные объекты. Законы деятельности данных объектов Граждан (со ссылкой на цитату В. Ленина) считает объективными, независимыми от сознания и воли людей – учеников, больных или подчинённых. Данные законы независимы также от деятельности аналогичных общностей [2, с. 96]. В предложенном рассуждении наибольшая неясность связана с так называемыми социальными объектами (социальными законами), которые являются фундаментом социальных систем, в то же время почему-то сами действуют, будучи при этом независимыми от сознания и воли людей. Родоначальником такой идеи Выступил К. Маркс в отношении к экономической системе. У Граждана понятие «социальный объект» становится омонимом, так как, рассматривая процедуру лечения, Граждан субъектом считает врача, объектом – пациента; в процессе образования субъектом им назван учитель, объектом – ученики [2, с. 97]. В данном случае использован не социальный закон (как социальный объект), а объект субъективного воздействия, что существенно различно и неверно. Помимо этого, любой внешний способ воздействия одного субъекта на другого всегда оказывается процедурой или процессом их взаимодействия, а не механическим воздействием, как действует рука на предмет. Люди, будучи одушевлёнными, никогда не являются объектами воздействия, даже при грубом насилии. Потому применение к людям термина «объект» недопустимо.
Р. Йеринг объективными считает действующие нормы законодательства, создающие порядок жизни; к субъективным свойствам закона он относит способы применения конкретных норм закона к тому или иному положению лица. Тут же Йеринг добавляет, что закон и в том, и в другом случае наталкивается на сопротивление граждан, что верно тогда, когда закон несправедлив. Йеринг этот случай не упоминает, лишь констатируя факт двунаправленной борьбы закона с гражданами и граждан с законом. Причём, Йерингу кажется, что закон обязан победить [3, с. 14]. Последнее утверждение я оставляю на его совести, так как, что уже упоминалось, люди игнорируют или не выполняют противоречивые и мешающие их жизни законы. И всё же главное то, что он затронул тему субъективно-объективного бытия законов. Она особенно ярко высветилась при упоминании борьбы, но не закона с гражданами, как решил Йеринг, а граждан – с излишними, противоречивыми и несправедливыми нормами законов.
Какова же всё-таки объективность закона, если она есть? Любой проект закона в момент его создания и последующего восприятия обусловлен установкой сознания (или мотивом), замыслом, общей смысловой направленностью, волей создателя, после – способами его интерпретации, наконец, способами его применения. Все данные условия создания и восприятия закона духовно-субъективны. И лишь материальный субстрат напечатанного текста, а также субстрат носителя, на котором зафиксирован закон (бумажного, электронного, раньше – каменного или пергаментного) полностью объективен. Примерно об этом же пишет Б. Кистяковский, фиксируя, что нормы закона, с одной стороны, созданы умом человека, с другой, они становятся общими для всех, с третьей – являются предметом высказываний людей по их поводу [5, с. 211]. То есть, в его изложении, закон субъективен и духовен дважды – при его создании и в ходе его восприятия многими людьми. Фактор общности лишь свидетельствует, что законом заинтересовалось всё общество, но коли так, оно пытается его осознать. То есть, и в этом случае он материально-субъективен, когда между создателем закона и его восприятиями устанавливается духовная связь.
Общий вывод: существование законов и отдельных норм имеет даже не объективный, а материально-субъективный/духовный характер: материальный – в виде субстрата носителя и текста, субъективно-духовный – в ходе его создания и многих актов восприятия.
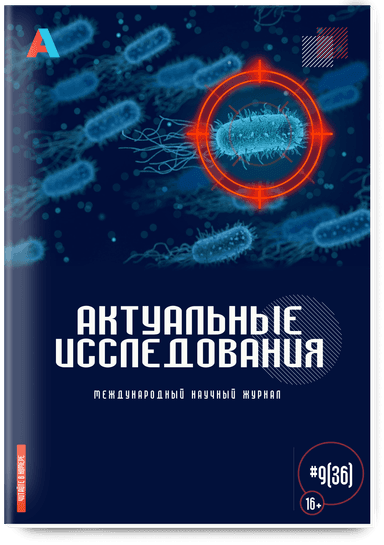
.png&w=640&q=75)