Введение
На рубеже 2010–2020-х годов глобальный урбанистический дискурс оказался в ситуации теоретической стагнации, когда доминировавшая почти два десятилетия модель умного города стала восприниматься не только как набор эффективных управленческих решений, но и как концептуально ограниченная рамка. Усиливающаяся критика адресует прежде всего технократический детерминизм: при несомненных достижениях в оптимизации инфраструктур и администрировании городского хозяйства умного города нередко сводит фигуру горожанина к роли пассивного производителя данных либо пользователя сервисов, тем самым вытесняя из поля анализа эмоциональные, аффективные и игровые измерения человеческого опыта [1, с. 592-626].
В указанной проблемной конфигурации концепция Playability («играбельность», «игровая интерактивность») формируется не как отрицание технологического вектора, а как его функционально необходимое развитие. Модель Playable City предполагает перенастройку уже существующей инфраструктуры умного города – сенсорных систем, экранных поверхностей, мобильных сетей – таким образом, чтобы они служили не только мониторингу и дисциплинарным режимам управления, но и производству ситуаций игры, удивления, спонтанной коммуникации и совместного творчества [1, с. 592-626; 4]. Такой подход согласуется с тезисами Антона Нийхолта и Бенджамина Стокса, трактующих город как игровую платформу, способную переопределять формы социального контракта между жителями и администрацией [3]. Дополнительную аргументацию актуальности данного поворота дают систематические обзоры литературы за 2015–2020 годы, фиксирующие устойчивый дисбаланс исследовательских приоритетов: основная масса работ сосредоточена на кибербезопасности и технологиях сбора данных, тогда как вопросы человеческого опыта и политик взаимодействия остаются второстепенными [1, с. 592-626]. В этом смысле переход к логике Playability может быть интерпретирован как попытка актуализировать «право на город» в лефевровском понимании в условиях цифровой эпохи, одновременно переопределив его содержание с учётом цифрового неравенства, практик надзора и алгоритмической предвзятости [2, 11].
В российской перспективе 2019–2022 годы обозначились как период интенсивной перестройки урбанистического ландшафта, связанной с запуском и реализацией Национального проекта «Жилье и городская среда» и федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Эти программы способствовали институциональному закреплению понятий и инструментов, ранее не занимавших центрального места в отечественном градостроительном дискурсе. Показательна эволюция термина «благоустройство»: будучи исторически привязанным к утилитарным практикам поддержания порядка и базовой функциональности, он преобразовался в один из ключевых операторов государственной политики и связанной с ней идеологии пространственных изменений [5; 19, с. 553-567]. Эмпирические исследования указывают, что модель «комфортного города», продвигаемая федеральными институтами развития (ДОМ.РФ, КБ Стрелка), приобрела статус нормативного стандарта, транслирующего московские решения и эстетико-функциональные коды на различные типы городов по всей стране [6, с. 7-22]. Введение и закрепление Индекса качества городской среды, утверждённого Правительством РФ, институционализировало цифровую трансформацию и вариативность досуговых сценариев как значимые KPI для региональных и муниципальных управленческих команд [7]. В результате сложилась специфическая ситуация, при которой практики геймификации и интерактивности получают импульс преимущественно «сверху», превращаясь в элементы управленческой отчётности и ресурсы политической легитимации.
Цель работы состоит во всестороннем анализе того, каким образом Playability реализуется в современной России на пересечении физического проектирования общественных пространств и внедрения цифровых сервисов. В качестве центральной аналитической задачи выступает прояснение амбивалентности российской модели Playability: рассматривается, в какой мере она поддерживает эмансипацию горожан и развитие низовых инициатив, и в какой мере воспроизводит более сложные формы «сервисного урбанизма» и социального контроля.
Научная новизна сводится к тому, что в исследовании предложена аналитическая основа «играбельного города» для описания российских кейсов 2019–2022 гг. как альтернативу технократической оптике Smart City и показывает, что интерактивность в отечественной конфигурации выступает не только культурно-досуговым механизмом, но и инструментом политико-экономической капитализации территорий (рост символической/рыночной ценности) и управленческой регуляции повседневности. Новизна также состоит в сопоставлении трёх разных институциональных моделей производства Playability (государственный мегапроект, частная ревитализация, региональная система парков) с параллельным анализом «платформенного участия» (на примере «Активного гражданина») как расширения Playability в сферу городского управления.
Авторская гипотеза основывается на предположении о том, что в российских условиях 2019–2022 гг. Playability формируется преимущественно как «инструментальная играбельность», задаваемая сверху через благоустройство, событийное программирование и цифровые платформы; поэтому она одновременно увеличивает социальный капитал и устойчивость вовлечения, но производит эффект управляемой партиципаторности, где участие и «игра» конвертируются в ресурс легитимации, контроля и извлечения стоимости.
Материалы и методы
Исследование выполнено в смешанном теоретико-эмпирическом дизайне и опирается на междисциплинарный обзор литературы. Теоретические положения использовались как набор операциональных линз для интерпретации интерактивных практик в общественных пространствах и цифровых сервисах, включая различение антропоцентрической играбельности и технократической «сервисной» геймификации.
Отбор литературы осуществлялся по критериям релевантности, цитируемости и воспроизводимости понятийного аппарата: включались публикации 2015–2022 гг. (для фиксации актуального поворота в дискурсе) и базовые «опорные» тексты более раннего периода, если они задают общепринятые определения (Playable City, sentient/affective city, policy mobility). Исключались источники, не содержащие операционализируемых категорий (например, общие эссе без методологических выводов) и материалы, где «игровизация» употребляется как метафора без привязки к механизмам взаимодействия и институциональному контексту.
Эмпирическая стратегия построена в логике множественного кейс-стади с сопоставлением трёх объектов: парк «Зарядье» (Москва), остров «Новая Голландия» (Санкт-Петербург) и система парков Казани. Кейс-отбор выполнен по принципу максимальной вариативности: различие источников финансирования и управления (государственный/частный/региональный контур), культурной роли пространства и профиля аудитории позволяет выявлять не частные эффекты, а устойчивые закономерности производства играбельности в разных институциональных конфигурациях.
Сбор данных осуществлялся методом анализа документов и вторичного анализа количественной информации за 2019–2022 гг.: использовались официальные отчёты и публикации профильных структур, материалы проектной/эксплуатационной документации, сведения о программах и событиях, а также доступная статистика цифровых платформ гражданского участия. Для Казани дополнительно учитывались результаты социологических опросов посетителей (структура аудитории, сценарии использования), что позволило описывать playability не только как дизайнерское решение, но и как распределённую практику с различиями по возрасту, полу и типу занятости.
Результаты исследования
Парк «Зарядье», размещённый в непосредственной близости от кремлёвского ансамбля, может рассматриваться как наиболее последовательная российская реализация техно-природного гибрида. Проект, разработанный международным консорциумом под руководством Diller Scofidio + Renfro, опирается на концепцию «дикого урбанизма», в которой демаркационная линия между архитектурным объектом и ландшафтной средой целенаправленно размывается, а «естественность» переживания пространства конструируется как результат проектного решения [12]. Вместе с тем эффект природной непринуждённости не является самопроизвольным свойством территории: он поддерживается скрытой от непосредственного восприятия высокосложной инженерно-технологической системой, функционирующей как операционная основа этого «живого организма».
Обращение к технической документации парка «Зарядья» позволяет реконструировать масштаб инфраструктурного обеспечения, необходимого одновременно для поддержания имитации природной динамики и для управления интенсивными потоками посетителей. В профильной исследовательской литературе подчёркивается, что эксплуатационная устойчивость подобного пространства достигается ценой высокой ресурсоёмкости и разветвлённой материально-технической базы, без которой становится невозможным воспроизводство заданного сценария «естественной» среды [12].
В таблице 1 собраны основные технические показатели объекта и поясняется, как каждый из них влияет на эксплуатацию, инфраструктуру и сценарии использования.
Таблица 1
Ключевые инженерные параметры проекта и их функциональные последствия (составлено автором на основе [13])
Технический параметр | Значение | Функциональное назначение и импликации |
Пиковое энергопотребление | 750 МВт/ч | Обеспечение работы медиакомплексов, климатических куполов («Стеклянная кора»), освещения и систем безопасности. Энергоемкость сопоставима с промышленным предприятием. |
Водопотребление | 900 м³/год | Полив уникальных ботанических зон (тундра, степь), работа аквариумов и систем туманообразования. |
Объем строительства | 2 700 м³ | Включает подземные музеи, паркинг, медиацентры, скрытые под ландшафтом. |
Нагрузка на перекрытия | 2 тонны/кв.м | Позволяет размещать тяжелое экспозиционное оборудование, трансформируя пространства под любые выставки и инсталляции. |
Длительность строительства | 36 месяцев | Экстремально сжатые сроки для объекта такой сложности, что потребовало уникальных управленческих решений. |
Приведённые показатели позволяют утверждать, что интерактивность «Зарядья» опирается не столько на выразительность архитектурно-ландшафтного решения, сколько на высокомощный инженерный каркас. Парк функционирует как программируемая среда, в которой допускается управляемая вариативность микроклимата (в частности, в зоне под куполом филармонии), визуальных сценариев и функционального распределения зон. Подобная организация пространства формирует эффект «технологического возвышенного»: переживание трепета возникает не перед автономной природой, а перед технологией, способной её реконструировать, стабилизировать и контролировать [9, 16, 22].
Доступные открытые материалы о работе «Зарядья» указывают на результативность событийно-ориентированной модели, где интерактивность поддерживается плотным программированием пространства и регулярной сменяемостью культурных и образовательных форматов. В этой логике Playability не сводится к развлечению: она сближается с образовательно-развлекательными программами через научно-познавательные активности, экспозиционные практики и медийные форматы, которые расширяют присутствие парка за пределы физической территории и формируют устойчивый «повод возвращения». При этом ключевой эффект создаётся сочетанием проектной «природности» и высокотехнологического инженерного каркаса, делающего среду программируемой и управляемо вариативной [9, 12, 13, 20].
На этом фоне «Новая Голландия» в Санкт-Петербурге демонстрирует иную конфигурацию интерактивности: частная ревитализация исторического наследия строится на внимательном сопряжении памяти места и актуального художественного производства. Прошлое острова как закрытого военного объекта со складами корабельного леса и морской тюрьмой, сформировало особую «ауру» недоступности и загадочности, которая была конвертирована архитекторами (West 8) и девелопером (Millhouse) в устойчивое символическое и маркетинговое преимущество [14]. Реконструкция не стремилась к вытеснению исторического слоя, но осуществила его перекодировку: бывшая тюрьма «Бутылка» была трансформирована в коммерчески и культурно нагруженный хаб [14]. Существенной особенностью проекта стала исходная ориентация на цифровую культуру и креативные индустрии, задающая phygital-логику как режим повседневной эксплуатации пространства: физическая среда насыщается цифровыми возможностями, включая высокоскоростной доступ в сеть, коворкинги и образовательные инфраструктуры («Маяк»), что усиливает притяжение для «цифровых кочевников» и стартап-среды, где границы между работой, игрой и жизнью структурно размыты [21]. Интеграция образовательных программ по разработке компьютерных игр и дизайну дополнительно закрепляет производственное измерение Playability как часть тканевой организации пространства [21].
Развитие цифрового паблик-арта в Санкт-Петербурге выступает ещё одним опорным механизмом этой модели, причём «Новая Голландия» функционирует как одна из ключевых лабораторий. В исследовательских определениях цифровой паблик-арт описывается как художественная практика, выходящая за пределы музейного «белого куба» и использующая технологии новых медиа для интервенций в городскую среду [23]. Фестивальные форматы наподобие Rosbank Future Cities и специальные проекты (включая инсталляции Ивана Новикова) работают не как декоративное сопровождение, а как способ производства смысловых разрывов: через сопоставление петровской модернизации и современной цифровизации задаётся перспектива рефлексии над историческим временем и логиками обновления [18, 24]. Важным свойством таких практик становится партиципаторность: интерактивные инсталляции предполагают соучастие, переводя зрителя из позиции наблюдателя в позицию соавтора опыта. Проекты, реализованные средствами видео-арта (в частности, переосмысление мифа о Спящей красавице в контексте советской истории), вовлекают локальные сообщества – студентов и художников – уже на стадии продакшна, тем самым формируя социальные связи не только в момент публичной демонстрации, но и в процессе создания [25]. В совокупности такая конфигурация снижает риск отчуждения, предлагая эмоционально насыщенный и интеллектуально нагруженный режим взаимодействия со средой, принципиально отличный от пассивного потребления развлечений.
Опыт Казани и Республики Татарстан выделяется как пример системного внедрения соучаствующего проектирования, выступающего базовым уровнем Playability. Анализ данных Дирекции парков и скверов Казани и материалов социологических исследований позволяет зафиксировать выраженную дифференциацию сценариев использования общественных пространств: интерактивные свойства среды интерпретируются неоднородно и распределяются по социально-демографическим группам неравномерно, что задаёт дополнительные параметры для оценки эффективности и социальной направленности подобных преобразований [10].
В таблице 2 продемонстрировано как разные группы пользователей используют парк, какие поведенческие паттерны подтверждаются статистикой и какие выводы это дает для проектирования и управления пространством.
Таблица 2
Пользовательские группы парка: сценарии посещения, статистика и ключевые инсайты (составлено автором на основе [8, 15])
Группа пользователей | Доминирующий сценарий | Статистика | Инсайт |
Молодежь (16–29 лет) | Социализация, групповой досуг | 94% посещают парки летом; 68,6% приходят с друзьями | Парк для молодежи – это «третье место», продолжение социальных сетей в офлайне. |
Люди старше 50 лет | Тихий отдых, наблюдение, прогулки с внуками | 28,7% посещают парки в одиночестве; 45,7% с друзьями/родными | Высокий процент одиночных прогулок сигнализирует о проблеме социального одиночества, которую парки могут смягчать, но не решают полностью. |
Женщины | Игры с детьми, культурные события | 39,8% – игры с детьми; 20,7% – мероприятия | «Двойная нагрузка»: досуг часто совмещен с репродуктивным трудом (уход за детьми). |
Мужчины | Спорт, транзит | 27,6% – физкультура; 26,5% – транзит | Утилитарное и функциональное отношение к пространству. |
Представленные эмпирические наблюдения указывают на структурный предел универсалистских трактовок Playability: единый режим «играбельности» не способен одинаково эффективно работать для разнородных социальных групп, обладающих различающимися телесными возможностями, привычками досуга, культурными кодами и цифровыми компетенциями. Вследствие этого общественное пространство в логике Playability должно проектироваться как слоистая среда, где сосуществуют несколько уровней и интенсивностей интерактивности – от минимальной и ненавязчивой до высокой и требующей активного участия, – обеспечивая множественность сценариев без принудительного стандарта.
Одним из ответов на запрос функциональной, инструментально ориентированной интерактивности стало распространение решений типа «Умная спортивная площадка» [26]. Подобные объекты оснащаются QR-кодами, которые открывают доступ к видеоинструкциям, инструментам фиксации тренировочных результатов и соревновательным механикам. В данном случае имеет место инструментальная геймификация: материальная инфраструктура (турники, тренажёры, спортивные модули) дополняется цифровым слоем, повышающим эффективность использования и дисциплинирующим практики через метрики, обратную связь и игровые стимулы [26]. Материалы дирекции парков и скверов и результаты опросов посетителей, подтверждают, что стратегия событийного программирования и разнообразия сценариев использования коррелирует с ростом видимой общественной активности и устойчивостью повторных посещений. Важнее количественных рекордов здесь сама управленческая логика: парки проектируются как «социальные платформы», где культурные события, спорт, семейные форматы и повседневные практики сосуществуют и конкурируют за внимание разных групп пользователей [10, 15].
Российская конфигурация Playability при этом не ограничивается трансформацией физически доступных пространств и распространяется на сферу городского управления через цифровые платформы, где «игровая» логика становится способом организации гражданственности. Московский проект «Активный гражданин» можно рассматривать как один из наиболее заметных российских примеров геймификации участия в городской повестке: механики баллов, статусов и поощрений переводят участие из регистра «обязанности» в регистр повторяемого действия, где мотивация поддерживается накоплением символического результата. При этом архитектура участия остаётся, как правило, процедурно ограниченной: чаще предлагается выбор среди заранее сформулированных опций, а рамка постановки вопросов и повестки задаётся институционально – что сближает такую модель с логикой «сервисного гражданства» и усиливает риск имитационности партиципации [17, 27]. Встроенные механики баллов, статусов и системы поощрений переводят участие из регистра нормативной обязанности в регистр игрового действия, в котором накапливается «репутация» и воспроизводится мотивация через символические и материальные вознаграждения [17]. Однако критика «умного урбанизма» обращает внимание на риск имитационности такого участия: в большинстве случаев предлагается выбор среди заранее заданных опций (например, вариации оформления или наименования), тогда как формирование повестки и постановка проблем остаются институционально ограниченными [2]. Возникает эффект «сервисного гражданства», при котором «право на город» смещается в сторону права на более качественный и удобный сервис, а партиципаторность приобретает управляемый, процедурно дозированный характер [2].
Аналитический ракурс позволяет утверждать, что становление Playability в российском городском развитии тесно переплетено с политической динамикой. Понятие «благоустройство» в этом контексте приобретает функцию маркера «столичной практики», транслируемой из Москвы в региональные центры и распространяемой на новые территории [5]. Показательно, что вице-премьер, выступающий одной из ключевых фигур строительного комплекса, последовательно продвигает реконструкцию городов по московским шаблонам – включая создание парков, сопоставимых по символическому капиталу с «Зарядьем», – как знака возвращения к нормальности и обещания процветания [5; 6, с. 7-22]. В результате высококачественные «игровые» общественные пространства начинают работать как ресурс «мягкой силы»: горожанам предлагается комфортная, событийно насыщенная и визуально современная среда, стилизованная под «европейский уровень жизни», тогда как политический эффект достигается через конвертацию комфорта в лояльность либо в деполитизацию повседневности. В интерпретации Зупан и Гунько подобная логика соотносится с «авторитарным модернизмом», где удобство и благоустроенность превращаются в инструмент социальной инженерии [6, с. 7-22].
Встраивание игровых практик при этом вступает в диалектическое противоречие с императивом безопасности, задающим базовую оптику концепции Smart City [1, с. 592-626]. Игра структурно связана с непредсказуемостью, допущением риска и временным размыканием границ допустимого; «умный» город, напротив, ориентирован на максимизацию наблюдаемости, управляемости и профилактику девиаций. В российских парках данная коллизия, как правило, разрешается через жесткое зонирование и сценарное программирование активностей: «дикость» «Зарядья» функционирует как симулякр природности, поддерживаемый режимами камерного контроля и присутствием охраны. Спонтанные формы активности – включая несогласованные митинги или перформансы – вытесняются, уступая место легитимированной игре в заранее отведённых зонах. Наблюдательные технологии, подаваемые как сервисы безопасности, воспроизводят эффект паноптикума и способны редуцировать подлинную игровую свободу до управляемой имитации [2].
Заключение
Проведенное исследование позволяет заключить, что в интервале 2019–2022 годов в России оформилась особая, государственно-центричная конфигурация Playability. Ее отличает, во-первых, высокий технологический уровень: материальная инфраструктура знаковых парков (включая «Зарядье») и цифровые контуры городских сервисов (например, «Активный гражданин») в целом соотносятся с международными ориентирами. Во-вторых, данная конфигурация носит выражено инструментальный характер: интерактивность и «игровые» решения используются преимущественно как прикладной механизм управления потоками пользователей, наращивания лояльности и повышения капитализации городской недвижимости. В-третьих, прослеживается жесткая централизация: нормативные стандарты и модели от логики «благоустройства» до метрик вроде индекса качества формируются на уровне центра и затем реплицируются на периферийные территории. Наконец, выявляется внутреннее противоречие: публично артикулируемая установка на вовлечение нередко расходится с практиками контроля и с имитационными формами участия, в которых пределы возможного выбора задаются заранее.
Для того чтобы российские города становились по-настоящему playable, а не ограничивались рамкой smart, требуется сдвиг от доминирования количественных индикаторов к качественным преобразованиям городской среды и институтов участия. Ключевым направлением выступает переход от сервисной логики к субъектности: цифровые платформы должны обеспечивать не только голосование за подготовленные решения, но и процедурно закрепленную возможность выдвижения инициатив, формирования проектов и артикуляции собственной повестки. Не менее значима поддержка спонтанности в пространственном дизайне: при проектировании парков и общественных пространств необходимы «незапрограммированные» зоны – своего рода «белые пятна», свободные от чрезмерного сценарного диктата и избыточного наблюдения, где допустимы свободная детская игра, эксперимент и творческое самовыражение. Существенным условием устойчивой геймификации становится инклюзивность: игровые сценарии и интерфейсы должны проектироваться с учетом исключенных и уязвимых групп, включая пенсионеров и людей с ОВЗ, опираясь на их реальные потребности и характерные способы использования пространства. Отдельного внимания требует гуманизация данных: собираемые массивы должны работать не только на отчетность, но и на полноценную обратную связь с жителями – через понятную визуализацию, публичные цифровые панели, а также формы цифрового искусства, повышающие прозрачность функционирования городских систем.
Playability в итоге предстает не как факультативное развлечение, а как разновидность новой городской грамотности в условиях цифрового мегаполиса. Способность городской среды поддерживать игру как форму повседневного взаимодействия и одновременно допускать «игру с городом» – инициативное, творческое и не полностью предписанное участие – способна стать одним из ключевых критериев качества городской среды в перспективе ближайшего десятилетия.
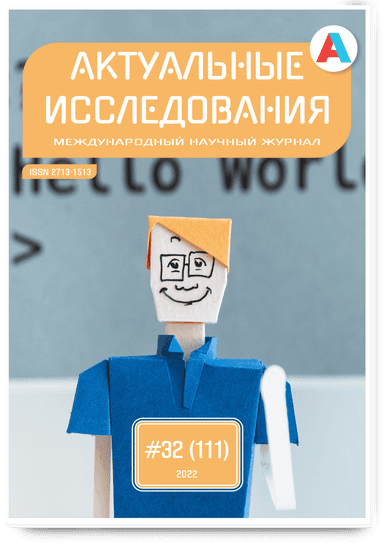
.png&w=640&q=75)