Создание и развитие электронного правосудия является одной из первоочередных задач развития государственного механизма в России. Как отмечает Василькова С.В., решение данной задачи является ответом на вызовы современного информационного общества и неотъемлемым компонентом стратегии перспективного совершенствования законодательства и правоприменительной практики в сфере организации судебной власти [2, с. 40].
Для исследования стратегии развития электронного правосудия необходимо четко понимать методологические основы и понятийно-категориальный аппарат электронного правосудия в цивилистическом процессе, его функции. Единообразное осуществление электронного правосудия в гражданском, арбитражном судопроизводстве невозможно без однозначного установления понятия «электронного правосудия». Данное единообразие играет важную роль в сфере организации судебной власти для применения конституционного принципа равенства всех перед законом и судом.
А.Е. Кириллов пишет: «Внедрение в работу нового оборудования и технологий за короткий срок, равный 15-20 годам, изменило деятельность органов правосудия настолько, что сформировался целый пласт процессуальных отношений, получивший название электронного правосудия, требующий научного определения, осмысления и нормативного урегулирования» [4, с. 222].
Следует отметить, что понятие «электронное правосудие» многократно обсуждалось в научных работах различных исследователей, но все же единого определения и унифицированного подхода к пониманию электронного правосудия до настоящего времени не имеется в отечественной правовой науке.
Как указывает Гукова М.В., электронное правосудие – для нашего государства понятие довольно новое и сложное в содержательном плане, поэтому ни в российской юридической науке, ни в законодательстве до сих пор не отражено точное определение данного термина [3, с. 1020].
По мнению автора, при определении понятия «электронного правосудие» необходимо исходить из трехаспектного его понимания в узком, широком и расширенном смысле в зависимости от того, на каком этапе становления электронного правосудия находится наше государство.
Определение электронного правосудия в узком смысле было дано в Концепции развития информатизации судов до 2020 года, согласно которому под электронным правосудием понимаются способ и форма осуществления предусмотренных законом процессуальных действий, основанных на использовании информационных технологий в деятельности судов, включая взаимодействие судов, физических и юридических лиц в электронном (цифровом) виде [5].
В узком смысле электронное правосудие может быть также определено как возможность суда и иных участников процесса совершать в электронной форме предусмотренные законом действия, влияющие на исход судебного разбирательства (подача документов в электронной форме, участие в заседании суда с использованием видео-конференц-связи и др.).
Что касается широкого смысла понятия «электронного правосудия», то здесь можно обратиться к мнению Романенковой С.В., которая в данном смысле определяет электронное правосудие как совокупность различных автоматизированных информационных систем – сервисов, предоставляющих средства для публикации судебных актов, ведения «электронного дела» и доступа сторон к материалам «электронного дела» [6, с. 27]. С помощью указанных средств абсолютно на иной качественный уровень выводится взаимодействие суда, участников процесса и иных заинтересованных лиц. Одновременно с этим данные сервисы имеют прикладной, вспомогательный характер, не изменяя способов ведения судебного процесса.
На наш взгляд, в широком смысле об электронном правосудии в России возможно говорить тогда, когда совокупность различных автоматизированных информационных систем (сервисов) будет представлять собой единую, предусмотренную нормативными правовыми актами, защищенную систему, позволяющую осуществлять правосудие в электронной форме на всех его этапах, стадиях. Вместе с тем, стоит отметить, что возможность совершения электронной процедуры должна быть свойственна всем, а не только имеющим для этого необходимую правовую основу отдельным процессуальным действиям и взаимодействиям участников.
Различия между широким и узким подходом к пониманию электронного правосудия, по мнению автора, заключается в разнице между информатизацией судебной деятельности как внешним, формальным совершенствованием организационных основ судебной власти, и собственно электронным правосудием.
Если обратиться к расширенному подходу понимания электронного правосудия, то некоторые авторы полагают, что такой поход можно считать вершиной электронного правосудия в России, и его становление предполагает дополнение описанной в широком подходе системы электронного судопроизводства, использование системы искусственного интеллекта [1, с. 35]. Дело в том, что именно данная система, в отличие от иных автоматизированных информационных систем, способна не только хранить и передавать информацию в неизменном виде, но и на основе имеющейся информации создавать новые документы, вплоть до судебных решений. Вместе с тем, автор полагает, что говорить о возможности использования искусственного интеллекта при отправлении правосудия на сегодняшний день в России преждевременно, поскольку в нашей стране технологии применения искусственного интеллекта в судебной практике ещё не получили такого широкого распространения, как в других странах (Франция, Китай, Аргентина, Эстония).
Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что до настоящего времени не сложилось единого подхода к пониманию электронного правосудия, одновременно с этим для изучения его становления и развития можно рассматривать понятие «электронное правосудие» в узком, широком и расширенном смыслах.
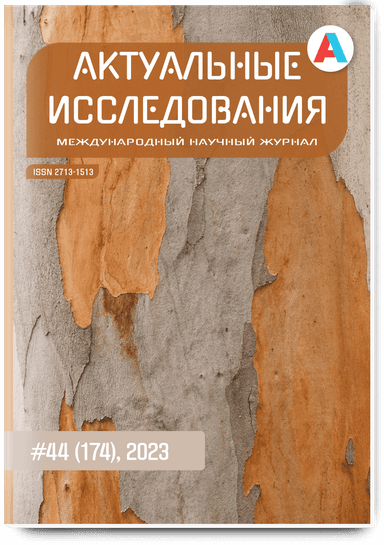
.png&w=640&q=75)